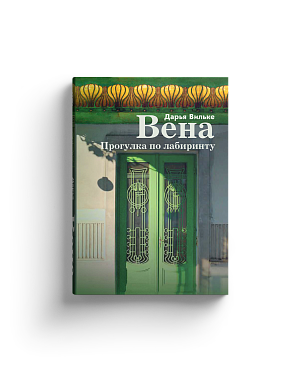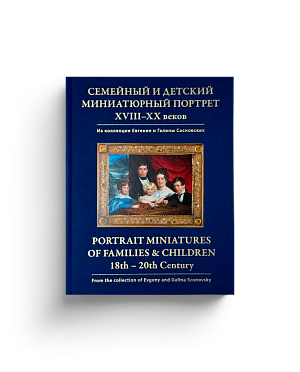Вопрос о совместимости гения и злодейства — вопрос вечный. Никто до сих пор так и не понял, обязан ли выдающийся человек быть моральным и гуманным (видимо, об этом будут спорить веками). Но можно с уверенностью сказать, что почти во всех случаях такой человек будет странным. Так устроен мир: неординарные свойства личности компенсируются лёгкой сумасшедшинкой, а то и вовсе букетом причудливых девиаций. Если странности безобидные, общество терпит и относится с пониманием. Если же они выходят за допустимые рамки, общество относится с куда меньшим пониманием, но… по-прежнему терпит, ибо Quod licet Jovi, non licet bovi.
Вопрос о совместимости гения и злодейства — вопрос вечный. Никто до сих пор так и не понял, обязан ли выдающийся человек быть моральным и гуманным (видимо, об этом будут спорить веками). Но можно с уверенностью сказать, что почти во всех случаях такой человек будет странным. Так устроен мир: неординарные свойства личности компенсируются лёгкой сумасшедшинкой, а то и вовсе букетом причудливых девиаций. Если странности безобидные, общество терпит и относится с пониманием. Если же они выходят за допустимые рамки, общество относится с куда меньшим пониманием, но… по-прежнему терпит, ибо Quod licet Jovi, non licet bovi.
Всемирную историю необычного поведения стоило бы прослеживать по крайней мере с Античности: скажем, основатель философской школы киников Диоген спал в глиняном сосуде (вероятно, всё-таки в греческом пифосе, а не в абстрактной «бочке»!) и просил Александра Македонского не загораживать ему солнце. Потом человечество обрастало новыми знаниями, панцирь цивилизации становился всё более твёрдым, но это ничуть не мешало проявлению разнообразных чудачеств — как коллективных, так и сугубо индивидуальных.
Представим себе картину: взрослый бородатый мужчина с тёмной кудрявой шевелюрой ложится спать в одежде и в сапогах. Ситуация повторяется раз за разом, причём ни сапоги, ни одежда не меняются порой по несколько суток. Подобный modus vivendi должен вызывать законное отвращение, но как только мы узнаём, что мужчину звали Микеланджело Буонаротти, вопросы отпадают: обыватель готов закрыть глаза на любые причуды великих, поскольку талант служит пожизненной индульгенцией и оправдывает очень многое.

Говоря о красочной палитре странностей, стоит видеть разницу между природными отклонениями и сознательным эпатажем. Скажем, великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов очень любил наблюдать за пожарами, и это внезапное сходство с императором Нероном скорее стоит расценивать как необычную прихоть, а не душевную болезнь. В то же время чрезмерное обжорство того же Крылова уже наводит мысль о некой патологии — не говоря о чудовищной рассеянности, из-за которой автор «Квартета» и «Свиньи под дубом» летним утром отправился на прогулку в костюме Адама. Более того, будучи абсолютно голым, Крылов умудрился принимать у себя гостей (то ли снова забылся, то ли хотел ошарашить благородную публику), чем вызвал убийственно ироничную реакцию князя Голицына: «люблю Крылова! Вечно за своим делом! Жаль только, что слишком легко одет».
Гению свойственно приспосабливать мир под свои нужды, поэтому и поведение гения не вписывается в привычную нам филистерскую систему координат. И если кому-то, к примеру, удобно работать именно стоя (так поступал Фридрих Ницше) — значит, надо работать именно так. Композитор Стравинский вообще стоял на голове и видел в этом огромный практический смысл: если «творческие соки» будут приливать к мозгу, значит, с большей вероятностью родится новое хорошее сочинение.
Осознавая, что даже самое идиотское поведение может быть элементом яркого имиджа, некоторые деятели искусства умело играли на струнах массового любопытства и превращали чудачество в полноценную жизненную стратегию. Такой грамотный и даже циничный подход к самопиару оказался особенно выигрышным в двадцатом веке с его тотальным господством масскульта и всепожирающей рекламой. Вспомним атмосферу тридцатых: мир оглушён воем самолётов, взрывами джаза и рёвом массовых демонстраций; на сцену выходит эксцентричный Сальвадор Дали — испанский self-made man, который умел удивлять человечество до последних дней своей жизни. Дали не только писал гениальные картины и кромсал природу скальпелем сюрреализма. Он превратил самого себя в полноценный арт-проект, изобретал нелепые костюмы с мёртвыми мухами, инсценировал «Танец с саблями» перед композитором Хачатуряном устраивал маскарады и невозмутимо разгуливал по мадридским улицам с гигантским муравьедом на поводке. Было ли это его эстетическим выбором? Несомненно. По сути, именно Дали стал маяком, некой отправной точкой для многих последователей поп-арта и выдающихся эксцентриков современности. Несомненно и то, что «наследником» Дали в какой-то мере можно считать Энди Уорхола, любившего красить волосы в седину даже в очень молодом возрасте. Вызов, ориентация на эпатаж и броскую внешнюю эстетику — вот, что подарил миру великий уроженец Фигераса с закрученными усами, вдохновив толпы акционистов и других творческих людей на собственные экспериментальные выходки. Другой великий испанец, Пабло Пикассо, всегда носил с собой револьвер, куда бы он ни отправился. Впрочем, причиной тому могла быть обыкновенная фобия, а вовсе не эксцентричность — что-то вроде привычки Маяковского постоянно мыть руки, опасаясь заражения крови.

Безумие как данность и безумие как стратегия… Безумие как награда и безумие как приговор… Чего в искусстве больше, сказать трудно. Очевидно только, что странности всегда шли рука об руку с озарением и ярче всего этот феномен проявлялся в переломные эпохи. Как метко выразился Анатолий Луначарский, «...история ударяет своей рукой виртуоза как раз по патологическим клавишам».