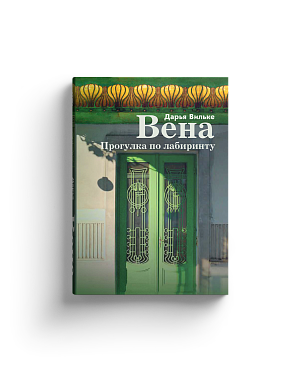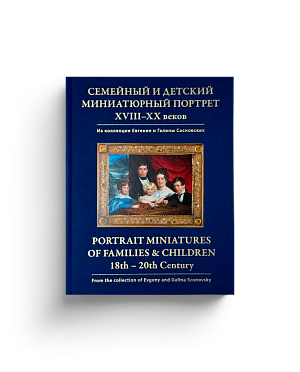Публикуем отрывок из книги Евгения Штейнера «Япония. Приближение к Фудзияме»
В конце октября 1994 г. во втором часу пополудни в ничем не примечательную районную больницу Аихара в токийском пригороде Хасимото нагрянуло важное начальство из городской управы. Руководство больницы было предупреждено о визите, а мелкий персонал, который в Японии боится начальства не меньше, чем персонал российский, встревоженно всколыхнулся. Однако выяснилось, что важные персоны из мэрии явились не с проверкой. Они пришли засвидетельствовать почтение русской даме, второй год живущей в одной из палат. Даме исполнилось сто лет. По этому случаю ей был вручен подарок — сто тысяч йен наличными. Лидия Павловна — так звали необычную пациентку — торжествовала. До этого она не слишком жаловала японскую систему здравоохранения, но увидев пришедших к ней с поклоном отцов города, почувствовала свою значимость.
Как случилось, что урожденная жительница Петербурга (не нынешнего Петербурга, что в Ленинградской области, а того, настоящего), проведшая в столице империи двадцать два года и вышедшая там замуж, встретившая революцию вполне взрослым человеком, тихо доживает свои последние годы на больничной койке в обыкновенной японской больнице?
Впервые я услышал об этой русской долгожительнице в Японии ровно год назад, в середине ноября. После заседания русской кафедры в Токийском университете Святой Софии профессор кафедры Галина Ивановна Павленко, живущая в Японии уже лет двадцать, повела меня в ближайшее кафе, что напротив церкви Св. Игнатия. Перейдя с литературных проблем на дела житейские, я упомянул о том, как сложно снять в Токио недорогую квартиру семье иностранцев с ребенком. «Постойте, — сказала Галина Ивановна, — есть одна квартира. Недорогая и даже большая. Ваша жена умеет варить гречневую кашу и борщ?»
Выяснилось, что в этой квартире живет престарелая русская дама, бывшая преподавательница кафедры, а недавно она сломала ногу и лежит в больнице. К японской пище дама никак не привыкнет, и нужно два-три раза в неделю варить кашу и приносить ей в горшочке в больницу. «А сколько лет даме?» — поинтересовался я. Галина Ивановна засмеялась: «Вообще-то сто один, но она уверяет, что только девяносто девять». Я поперхнулся усами омара, запеченными в тесте.
Оказалось, что у Лидии Павловны есть разночтения в документах. Не без ее собственного волевого усилия она помолодела в некоторых бумагах на два года. Сделано это было не только из женского кокетства. К такой мере старушка прибегла, чтобы подольше не уходить на пенсию. Когда дело подошло к девяноста, на пенсию ей все-таки пришлось отправиться, но эта уловка позволила японским властям, как теперь выяснилось, протянуть со своими ста тысячами йен (около тысячи долларов) целых два года. Несмотря ни на что, старушка дождалась подарка… Но попробуем по порядку.

Наша героиня родилась в старинной дворянской семье и носила в девичестве фамилию Никольская-Теплякова. Она любит вспоминать «детство Лиды», большой дом, семейные обычаи и манеры. Манерам она по-прежнему придает большое значение. Когда я явился к ней с цветами и сунулся поцеловать ручку, старушка оторопела и воскликнула: «Как, вы дворянин? Нет-нет, не отказывайтесь, я знаю, это только в нашем кругу так к дамам подходят». «Увы, сударыня, — конфузливо отнекивался я, пробуя все же на свой лад покичиться происхождением, — но родился на Арбате». «Где родился?» — «На московском Арбате». — «Не разберу, батюшка, что вы такое говорите». — «На Арбате!» — закричал я на весь коридор японской больницы. Светское общение начиналось трагикомически. Впрочем, старушка была больше охотницей говорить, нежели слушать. За сорок без малого лет жизни в Японии она так и не выучилась говорить по-японски и с удовольствием болтает по-русски с редкими своими посетителями.
Я попросил Лидию Павловну рассказать о петербургском детстве. Она с увлечением описывала тяжелые двойные двери их квартиры на Литейном; вспоминала, как они с мамой ездили на санях в Пассаж покупать подарки к Рождеству. Я смотрел на высохшую старушку в кресле-каталке и пытался представить себе гимназистку румяную в опушенном снежком капоре. Постичь, что все это происходило еще до Русско-японской войны и революции 1905 г., было сложно.
«Вы не верьте, когда говорят, что рабочие восстали, потому что мы их угнетали. Неправда. В нашем кругу всегда с уважением относились к народу. Вот у нас в доме девушка была, Катя. Нас, детей, учили к ней на „вы“ обращаться. А еще была кухарка, Федосья Фаддеевна. Как она, бывало, испечет торт, нас папа спрашивает: „Вкусно было? Ну а если вкусно, пойдите, поблагодарите Федосью Фаддеевну“. У нее комнатка была за кухней. Всегда с братом ходили „спасибо“ сказать. Нет, мы с простым народом всегда хорошо жили… А революцию эту — так то большевики сделали. Ленин из Швейцарии специально приехал. Вы знаете, — Лидия Павловна сделала паузу, но желание высказаться взяло верх. — Вы знаете, у него же была дурная болезнь. Он был просто не в себе! Вы меня понимаете?»
О революции у Лидии Павловны, к счастью, несколько отвлеченное представление. Выйдя замуж за служащего Китайско-Восточной железной дороги, она еще в 1916 г. уехала с мужем в Харбин. Этому городу, раскинувшемуся на сопках Маньчжурии, вскоре суждено было стать столицей белой эмиграции на Дальнем Востоке и слыть еще почти тридцать лет городом более русским, нежели осоветившиеся города и веси метрополии.
Как тогда жила Лидия Павловна? Как все, тяжело. Можно представить себе состояние людей, приехавших в Харбин поработать, как тогда казалось, несколько лет по контракту и вскоре узнавших, что в России революция, потом что царя убили и все со всеми воюют. Красные, как известно, победили, на КВЖД приехали совслужащие. Прежний персонал оказался большей частью не у дел. Муж Лидии Павловны умер. По городу время от времени маршировали молодчики Российской фашистской партии Родзаевского и атамана Семенова. После них с маршами протеста на улицы выходили чернорубашечники Бейтара. Потом пришли японцы, потом русские. Власть стала народная, китайская.
После войны Лидия Павловна перебралась в Шанхай. Там собралась вторая по значимости после Харбина община русских эмигрантов. С конца 1940-х гг. она быстро сокращалась. Люди ехали от Мао Цзэдуна в Америку, Австралию, Израиль. Немало их подалось в Россию, купившись на посулы «все простить», и застряло в Сибири. Лидия Павловна оставалась в Китае одна из последних — до 1958-го. Она нашла работу в каком-то советском представительстве, а потом и в консульстве, где потребовалось ее знание иностранных языков и умение печатать на машинке. Посольские товарищи ей неплохо, по нищим китайским понятиям, платили, уважали и даже выдали советский паспорт, чем Лидия Павловна одно время страшно гордилась. Более того, она засобиралась было на родину, но случилось чудо: посольские товарищи отнеслись по-человечески и деликатно отсоветовали.
Мао Цзэдун крепчал, и Лидия Павловна решила податься в Америку. Ехать предстояло через Японию, куда необходимо было выбраться в ожидании неспешной американской визы и где невозможно было задержаться надолго, — японские власти зажившихся иностранцев вообще не жаловали, а непонятных китайских русских в особенности. Но с Лидией Павловной снова случилось нечто похожее на чудо: ей предложили остаться в Японии.
В то время она уже носила чудную (ударение можно поставить на любое «у») фамилию Веселовзорова — по второму мужу. «Дрянь фамилия, — говорила она мне с пренебрежением, — да и мужичок был такой же негодящий, из поповичей». Вообще же она всегда отличалась завидной независимостью и самостоятельностью, что вкупе с непрактичностью русской барыни составляет опасное для жизни сочетание. Из-за этого-то она и осталась в Японии, и это привело ее ныне на одинокую больничную койку.
В отличие от большинства русских дважды беженцев (из России и Китая), которые перебивались в Японии непонятно чем и сидели на американских чемоданах, Лидия Павловна нашла приличную работу. Отцы-иезуиты из престижного Токийского университета Святой Софии предложили ей преподавать русский язык, помогли с устройством и вообще проявляли знаки внимания и уважения.

Тем временем подоспела американская виза. Лидия Павловна, которой тогда подходило к шестидесяти, захлопотала. Захлопотали (в противоположном направлении) и отцы-иезуиты, ее университетское начальство.
Университет предложил госпоже Веселовзоровой (представляю, что она терпела, когда студенты называли ее Бэсэробудзорова! Впрочем, приставка «сэнсэй» должна была греть самолюбие Лидии Павловны, которая с годами не утратила горделивой наивности петербургской гимназистки) … Да, так вот: университет предложил ей пожизненный контракт с приличной зарплатой. Лидия Павловна, как было свойственно русским дамам из благородных (а также потому, что не шибко владела японским языком), не стала дотошно вчитываться в контракт и радостно его подмахнула. Через тридцать лет беспорочной службы выяснилось, что в контракте отсутствовал пункт о пенсионном обеспечении. Еще достаточно энергичная, но все же девяностолетняя дама осталась практически без сбережений и источника дохода.
Между тем бывшие коллеги, то есть те же иезуиты, изыскали возможность оплачивать ей гостиничный номер в Йокогаме, в котором старушка безвылазно прожила тридцать пять лет. Она успела стать местной достопримечательностью, ее имя гордо упоминалось в рекламных буклетах гостиницы, но всему приходит конец. Новый хозяин (нескольких прежних Лидия Павловна пережила) испугался, что девяностолетняя дама невзначай умрет у него в номере и испортит этим настроение другим клиентам. Он ее начал по-японски деликатно, но настырно выселять. Лидия Павловна воевала, используя известный ей запас энергичной японской лексики. Добрейший отец Янез (Иоаннес), профессор-русист из Словении, служащий Богу посредством обучения японских студентов русскому языку, возил ей еду и увещевал обоих. Хозяин долго думал и наконец затеял капитальный ремонт, закрыв под это дело гостиницу и отключив коммуникации.
К тому времени землячество, клуб и прочие институции русских эмигрантов в Токио уже не существовали. Лидия Павловна обратилась в православные церкви — их в Японии две, русская и японская, но поддержки не получила. Так под старость Лидия Павловна разочаровалась, как она говорит, в религии. Между тем кроткие католики (коих она с молодым задором продолжает костерить, не выбирая выражений) сняли ей квартиру в предместье на свои орденские — не университетские — средства. В этой квартире Лидия Павловна и жила до прошлого года, навещаемая отцом Янезом, двумя русскими дамами из университета и изредка японскими студентами. Будучи ста (вариант — девяноста восьми) лет от роду, она сломала ногу и была увезена в больницу.
Ногу Лидии Павловне залечили, но выяснилось, что из больницы она выйти уже не может — нога слушается плохо, одной жить в квартире ей физически невозможно. Муж Галины Ивановны, которая и рассказала мне о диковинной русской даме с неукротимым духом, видный медик Окуяма-сэнсэй использовал свои связи, чтобы старушку оставили в больнице. Там она и живет уже второй год.
Жизнью это можно назвать лишь условно. В палате — восемь коек. На семи лежат, хрипят, храпят и умирают японские старухи. Провода, приборы и судна занимают узкое пространство между кроватями. Из имущества у Лидии Павловны одна тумбочка. Кровать стоит у окна, за которым шелестят деревья. На них-то и смотрит столетняя петербурженка, отворачиваясь от вида и запахов чужой больницы.
Японцев старая русская барыня вообще не жалует. Обиду от небрежения больничного персонала, коему она за год с лишним, видимо, изрядно надоела, переносит на всех японцев сразу.
«Странный народ, — говорит она. — Изб у них даже нету, живут под навесом. Щелку раздвинут и ползком внутрь. Всю жизнь ползают. Печей нет. Горшок с углями из самовара поставят на пол и сидят вокруг в одеялах…»
Я слушал эти речи с двойным изумлением и вниманием. Поразительно было то, что, по сути, сказанное совершенно точно соответствует описанию традиционного японского дома: хрупкого каркаса с декоративными раздвижными стенками под крышей, в котором действительно зимой обогревались (малоуспешно) углями в глиняном горшке. Но реалии эти все же несколько устарели, а кроме того, непостижимым образом из петербургской гимназистки вдруг, в столетнем возрасте, полезли какие-то фольклорные избы, печи, горшки с самоварами. Может быть, в увядающем сознании обострились некие глубинные национальные архетипы? Ужас и тоска больничного остывания с непонятно гомонящими японскими старухами под боком вылились в обостренное фольклорное противопоставление своего и чужого, в какие-то воспоминания о небывшем, о давнем русском — впечатанные от рождения представления о теплом, домашнем, с печью и самоваром в своей избе.
Но пока Лидия Павловна живет в больнице Аихара. И денег, чтобы нанять сиделку и вернуться домой (а собственно, где он этот дом?), у нее нет. Как нет и у доброхотов, помогающих ей хоть как-то визитами и русской едой.
Я еще два или три раза навещал Лидию Павловну. Последний раз я пришел к ней весной 1997 г. в компании с японским профессором-русистом Наганавой. Я распалил его воображение своими рассказами и американской статейкой. Профессор принес диктофон и ночную рубашку в подарок, а потом сделал доклад в университете Васэда, в семинаре по изучению русских эмигрантов в Японии. В то время Лидию Павловну перевезли в другую больницу с отдельной палатой. Она скончалась там ста четырех (вариант — ста двух) лет от роду и похоронена в братской могиле в русской части Иностранного кладбища в Йокогаме.