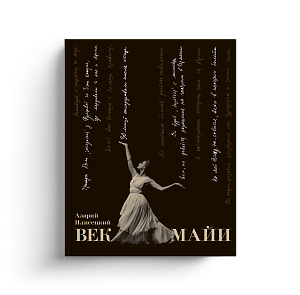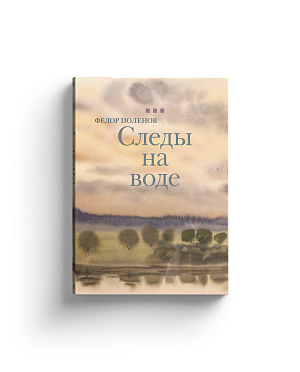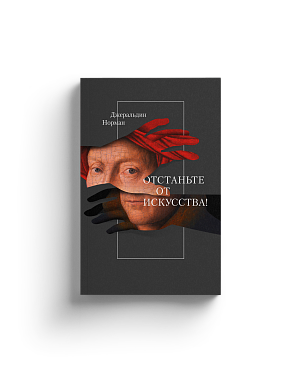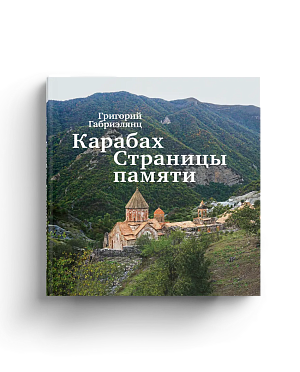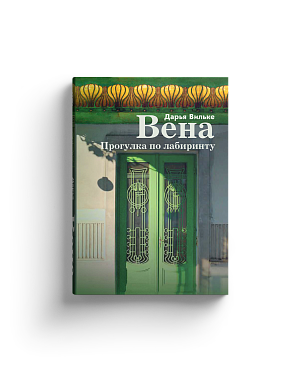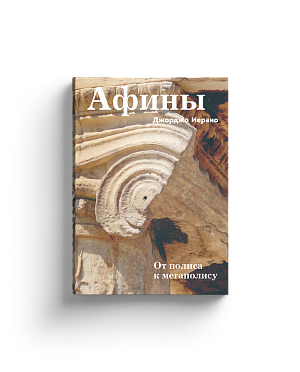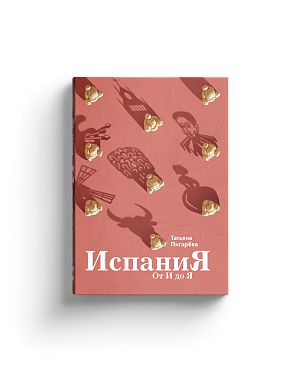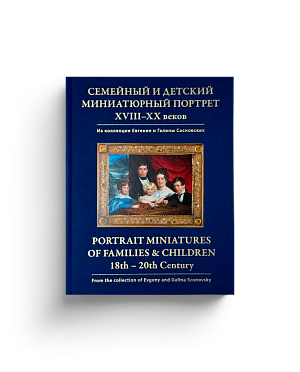Философия схоластов — высшее достижение средневековой мысли
Музыканты Средних веков стремились узнать тайны «музыкальной материи»: безвестные творцы григорианского хорала открыли секреты мелодической текучести, связности, проникли в самую суть мелодического начала; трубадуры исследовали возможности ритма, пытались внести в неуловимо текущее время черты упорядоченности, периодичности.
Над первичными основами Божьего мира размышляли также философы-схоласты, которые жили в разных странах Западной Европы в XI–XIII веках. Всякое рассуждение начинается с установления отношений единичного и общего, отношения каждого отдельного предмета и вещи с другими подобными вещами и предметами. Схоласты задались простейшим вопросом: что есть человек, «человек вообще»? Ведь когда мы говорим «человек смертен» или «человек разумен», мы не имеем в виду никого конкретно, а вместе с тем хотим сказать обо всех людях сразу, живущих ныне или живших в прошлом.
Или мы скажем «дерево», но какое? Будет ли это клен, растущий под нашим окном, или липа, стоящая у дороги? Безусловно, нет. Это будет не клен и не липа, а лишь общее имя всех деревьев на свете, «дерево вообще».
Мнения схоластов о сущности имен-понятий разделились. Иные утверждали, что, например, «человек вообще» есть таинственная субстанция, не видимая простым глазом, но тем не менее где-то существующая. Этих философов называли реалистами, и они в то время составляли большинство. Понятно, что средневековому человеку, наивная душа которого была подобна душе ребенка, легко было поверить, что все, что ни есть в мире, в том числе и «имена», — это нечто осязаемое, конкретное, ибо дитя с трудом верит в то, что нельзя потрогать или увидеть.
Второй философский лагерь составляли номиналисты (от лат. nom — имя). Они утверждали, что «человек вообще» — это лишь абстракция, образ, понятие. Как это ни кажется странным на первый взгляд, но его нет ни на земле, ни на небе. Он, как и все понятия, плод разума, результат размышлений и наблюдений. Номиналистам не верили, их даже презирали, но они продолжали отстаивать независимость интеллекта и особую действительность созданных им образов, живущих лишь в умопостигаемом пространстве, в мире идей.
Схоласты показали, что все предметы и явления можно разложить на понятия. Так, например, простой стол имеет размеры, прямоугольную или круглую форму, он сделан из дерева, и каждое из этих свойств можно при желании вообразить отдельно или приписать другому предмету. Скажем, прямоугольную форму могут иметь не только столы, но и картины, стены домов, спинки кресел и многое другое.
Движение тел наука впоследствии смогла описать с помощью таких понятий, как масса тела, его вес, скорость, длина пути. Без первого шага, сделанного схоластами, — выделения «классов», «видов», «имен» — невозможно было бы развитие науки, невозможен прогресс.
«Хаос» и «порядок» в музыке
Не стоит удивляться, что музыка — искусство, казалось бы, целиком интуитивное, бессознательное — и философия — занятие вполне рациональное, интеллектуальное — не столь уж далеки друг от друга. Музыкальное искусство обладает особым свойством — отражать в абстрактной звуковой форме духовный настрой каждой эпохи, ее духовное «ядро». Господствующее умонастроение времени, его эмоциональный тонус отражаются в музыке точнее и глубже, чем в живописи, поэзии или в архитектуре.

Амьенский кафедральный собор. 1220–1269 гг. Интерьер центрального нефа, вид на главный алтарь.
И так же как григорианский хорал вобрал в себя представления средневекового человека о пространстве и времени, впитал мистическую божественную тайну и передал все это в плавно развертывающейся мелодии, так и ранние органумы сумели донести до потомков то, что волновало их создателей, — первичное исследование элементов материи и способов их организации в нечто цельное и законченное.
Когда с открытием двухголосия возникли горизонталь (или собственно мелодическое начало) и вертикаль (музыкальные высота и глубина — одновременное взятие звуков), то появилась возможность двигаться в двух направлениях: исследовать горизонталь, осмыслить двухголосие как сочетание самостоятельных мелодий или изучить недавно открытую вертикаль, то есть выяснить природу созвучия, слияния тонов и понять двухголосие как совмещение пересекающихся линий, где важнее всего не сами линии, а точки их совпадения.
Многие музыканты — назовем их музыкальными реалистами — с удовольствием наслаждались дарами своей музыкальной интуиции: их органумы оторвались от твердой почвы григорианского хорала, мелодия второго голоса не удваивала его, а сопровождала хорал, то сливаясь с ним, то развиваясь независимо и свободно. Такие органумы называли мелизматическими.
Не так ли сотворен и Божий мир — пестрым и хаотичным — и не существуют ли в нем все тела и предметы, располагаясь свободно и часто вверяясь случаю? Ведь и средневековые трактаты, и атласы, и церковная живопись рисуют Вселенную множественной, населенной разнообразными существами. В мире земном и небесном причудливо совмещены ангелы и черти, моря и пустыни, люди белые и черные…

Музыканты. XIV век. Миниатюра из сочинения Боэция «Наставление к музыке» (De institutione musicae). Ms. V. A. 14, f. 47 r. Неаполь, Национальная библиотека. Вверху слева направо: виела, царь Давид с псалтерием, лютня; в центре: портатив (переносной орган), по сторонам — бубен и кастаньеты; внизу, в центре: литавры, по сторонам — прямые трубы.
Не так ли и мелодии, свободно сочетаясь, создавая звучания то приятные и слитные, то резкие и раздражающие, наилучшим образом соответствуют той пестроте и богатству, которые мы наблюдаем в мире?
Прочитать книгу полностью, а также послушать музыку Средних веков можно в книге Дины Кирнарской «Классическая музыка для всех. Средневековье. Ренессанс. Барокко. Классицизм»: