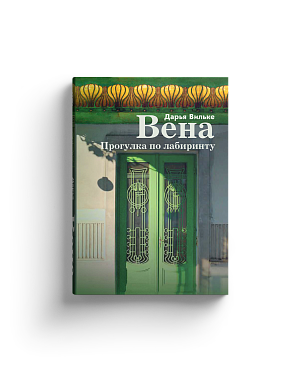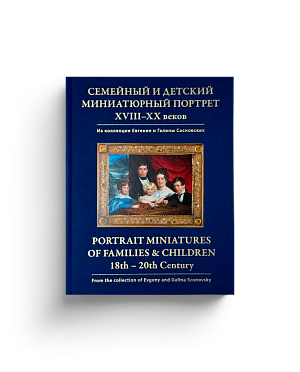Азарт, наблюдательность и пытливый ум всегда отличали русского путешественника: неслучайно этот классический литературный образ по-прежнему жив. Пересекая границы городов и стран, мы открываем не только мир, но и самих себя — что, пожалуй, более ценно. Ведь дорога — не просто абстрактная линия, проведённая из точки А в точку Б. Это жизнь в уменьшенном масштабе и проверка собственного характера. Это судьбоносное переплетение времени и пространства, которое преподносит неожиданные испытания (то, что филолог Бахтин назвал термином «хронотоп»). Наконец, это отличная тренировка для мозга: по словам учёных, в поездках он работает особенно активно и резко увеличивает свои возможности, поскольку в его недрах возникают новые дендриты — продолговатые отростки нейронов.

В России одним из ранних текстов о путешествиях стало легендарное «Хожение за три моря» купца Афанасия Никитина. Более того: это прообраз будущего жанра путевых заметок — по сути, первое художественное произведение, где русский человек отправляется в дальний путь не в качестве монаха или паломника, а с сугубо коммерческим интересом. Конечно, не только барыши и звон золотых монет волновали ум предприимчивого Афанасия: в противном случае автор не оставил бы нам красочные описания увиденного им на Кавказе, в Крыму, в Персии (нынешнем Иране) и в далёкой Индии. Мир Никитина был загадочным и таинственным — не то что сегодня. Если современные туристы, коммерсанты и вооружённые последними моделями смартфонов трэвел-блогеры чувствуют себя в относительной безопасности, то суровый пятнадцатый век таил в себе огромное множество рисков. Некоторые эпизоды «Хожения», будь они экранизированы, вполне могли бы стать кадрами захватывающего триллера.
«Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги, и тут они нас настигли и велели судно тянуть вверх по реке до еза. И судно наше большое тут пограбили и четыре человека русских в плен взяли, а нас отпустили голыми головами за море, а назад, вверх по реке, не пропустили, чтобы вести не подали. И пошли мы, заплакав, на двух судах в Дербент: в одном судне посол Хасан-бек, да тезики, да нас, русских, десять человек; а в другом судне — шесть москвичей, да шесть тверичей, да коровы, да корм наш. И поднялась на море буря, и судно меньшее разбило о берег».
Впрочем, стойкость духа не помешала купцу продолжить начатый путь, несмотря на жестокие игры судьбы. Тверичанин Никитин проявляет максимальную открытость к диалогу с чуждыми ему культурами, живо интересуется индийскими верованиями (удивляется, что их там целых 74), детально описывает роскошные восточные базары, диковинные традиции и нравы местного населения. Заметим, что это не книжно-романтичный взгляд «очарованного странника», а наблюдения трезвого прагматика, который ни на минуту не изменяет своей купеческой натуре.
«А в Индостане жить — значит издержаться совсем, потому что тут у них всё дорого: один я человек, а на харч по два с половиной алтына в день идет, хотя ни вина я не пивал, ни сыты», — согласитесь, звучит более чем современно. В «Хождении» мы чувствуем явную ностальгию — острую тоску по родине. Герой сколько угодно может восторгаться заморскими державами, любоваться видами и наслаждаться редкими угощениями, но никто не отнимет у него корней, его собственной идентичности. Кстати, «ностальгия» — это именно чувство путешественника и эмигранта: тоска по родине, а не времени. И в этом плане памятник древнерусской литературы удивительным образом перекликается со словами другого заядлого путешественника, Владимира Маяковского (поэту довелось посетить по меньшей мере 8 стран, включая Францию, США и Мексику):
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мёрз,
вовек
разлюбить нельзя.

Укрепление государства, медленное превращение патриархальной Руси в Империю породило особую систему общественных координат, новые отношения между человеком и окружающим миром. Пройденным Рубиконом оказалась эпоха Петра, целиком изменившая интеллектуальный климат страны: теперь путник обращал больше внимания на социальные драмы, на зачатки сословных и классовых конфликтов.
Знакомство с территориями и новыми людьми воспринималось уже не просто как приключение или авантюра, а как дополнительный веский повод для размышлений об этике и справедливости. Неслучайно и Радищев, написавший знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», и Карамзин с его циклом «Письма русского путешественника» захлопнули двери восемнадцатого века без особого оптимизма. Но если Карамзин в образных описаниях «старушки Европы» оказался более аполитичным, то Радищев воспользовался поездкой по родной стране для суровой критики самодержавия, в итоге заработав прозвище «бунтовщик хуже Пугачёва» и многолетнюю ссылку в Илимский острог. Бескрайняя ледяная Сибирь, помнившая походы Ермака, стала закономерной расплатой за авторскую прозорливость, за умение писать о реалиях жизни, замечать нищету и безрадостную свадьбу в местечке с говорящим названием «Чёрная грязь»:
«Проезжала тут свадьба. Но вместо радостнаго поезда, и слез боязливой невесты, скоро в радость претворится определенных, зрелись на челе, определенных вступать в супружество, печаль и уныние. Они друг друга ненавидят, и властию господина своего, влекутся на казнь, к олтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истиннаго блаженства, творца вселенныя. И служитель его приимет изторгнутую властию клятву и утвердит брак! И сие назовется союзом божественным!»

Традиция превращать путевые наблюдения в социальные очерки (а то и в зашифрованный манифест будущих перемен) была подхвачена и выведена на новый уровень крупными писателями XIX века. Конечно, в России регулярно появлялись книги о ярких впечатлениях и очаровании заморских стран (к примеру, «Фрегат Паллада» Ивана Гончарова) — но даже сквозь безобидные пейзажи пробивалась правда человеческого быта, а звонкие голоса певчих птиц до боли напоминали звуки «Марсельезы».
Симптоматично, что самые беспощадные и правдивые записи оставил нам великий Чехов — комик и трагик, врач и литератор, владевший художественным словом, как хирургическим скальпелем. В 1891 году 30-летний Антон Павлович в скупой репортёрской манере описал быт сахалинских поселенцев, и такая правда в итоге оказалась сильнее любого вымысла. «Вечером читали вслух „Сахалин“ Чехова. Ужасные подробности телесного наказания! Маша расплакалась, у меня всё сердце надорвалось», — вспоминала Софья Андреевна Толстая.
Оглянувшись назад, можно теперь сказать, что «Сахалин» — своеобразный пролог к литературным опытам Шаламова. Путешественник Чехов не даёт читателю никаких ответов на больные вопросы: он здесь скорее похож на доктора, который ставит правильный диагноз, но не спешит выписывать рецепт, доверяя эту миссию кому-то из более молодых коллег. Чехов явно опередил своё время, потому что «литература факта», освобождённая от авторских нравоучений, стала международным мейнстримом уже в XX веке — когда реальность могла быть подана только в прозрачной обёртке и не нуждалась в особых комментариях. Это и очерки Михаила Кольцова, и проза Константина Воробьёва, и, разумеется, обжигающий «Лес богов» литовского прозаика Балиса Сруоги.

Имея редкий шанс обозревать одну шестую суши, русские литераторы загорелись безумной, но благородной мечтой: сотворить коллективный портрет всей России, а заодно создать типичный портрет русского человека. Для этого, конечно, требуется большое путешествие — пространственное и экзистенциальное. На самом деле такой мечтой заболел ещё Гоголь, когда задумывал концепцию «Мёртвых душ». Позже мечту подхватили потомки.
В начале прошлого века, подобно художнику, который хватает старый мольберт и едет на пленэры, по Руси отправился Алексей Максимович Горький. В итоге он написал программный цикл рассказов, где простые люди — открытые им «босяки» — действуют, говорят, ругаются и торжествуют точно так же, как в реальной жизни. «Не знаю, как озаглавить мне очерки, посланные вам. — писал Горький редактору самого престижного на тот момент толстого журнала «Вестник Европы». — Я имел дерзкое намерение дать общий заголовок: “Русь. Впечатления проходящего”, — но это будет, пожалуй, слишком громко». Алексей Максимович никогда не боялся «дерзких намерений», и уж если он чего-то хотел — как правило, добивался. Позже школьная программа зачем-то придумала для нас альтернативный образ пролетарского писателя — предельно скучного, гранитного и монументального соцреалиста. Хотя этот имидж давно скорректирован, по дорогам XXI века и сегодня тянется шлейф прежних стереотипов. Стоит перечитать «Жизнь Клима Самгина» и убедиться, что Горький был демократичен, не стыдился грязного натурализма и начисто отвергал ханжество — именно поэтому стал ориентиром для огромного количества более поздних прозаиков, включая Эдуарда Лимонова. Для погружения в стиль Горького достаточно прочесть хотя бы рассказ «Ледоход», где русский весенний пейзаж и тонущий человек образуют почти библейскую картину:
«Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землею: все уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река, в мощном мясе земли, — словно жила, полная густой, кипучей крови».

Можно ли сказать, что русский путешественник — непременно критик и обличитель? Конечно, нет. Авторам не раз удавалось запечатлеть забавные картины своей и чужой жизни, нравы небольших субкультур и целых городов. Ещё со времён Карамзина литератор научился превосходно подмечать такие мелкие штрихи, которые вряд ли бросятся в глаза местному жителю. Особенно фантастическая бытовая наблюдательность просыпалась у писателей за границей: вспомним хотя бы путешествия Салтыкова-Щедрина (да, у него была не только одна сатира), а также совсем непохожую на щедринские опыты книгу Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Критика американского капитализма образца 1936 года ничуть не заглушает подросткового любопытства, восторга по поводу асфальтированных дорог и искреннего уважения к прагматичным обитателям Нового Света. Ильф и Петров оставались советскими людьми, но именно советская оптика помогла им по-своему посмотреть на чужой континент, не очерняя его, но и не поливая сахарным сиропом. «Я до такой степени набит впечатлениями, что боюсь чихнуть — как бы что-нибудь не выскочило... — писал Евгений Петров своей жене. — Мы уже знаем об Америке столько, что большего путешественник узнать не может. Домой! Домой!» Честность и профессионализм советских писателей по достоинству оценили и сами американцы. Вот что писала одна из нью-йоркских газет: «Ни на одну минуту авторы не дали себя одурачить. Рядом с центральными улицами они видели трущобы, они видели нищету рядом с роскошью, неудовлетворенность жизнью, всюду прорывавшуюся наружу».
Быть искренним и не дать себя одурачить! В этом — миссия русского писателя и русского путешественника.