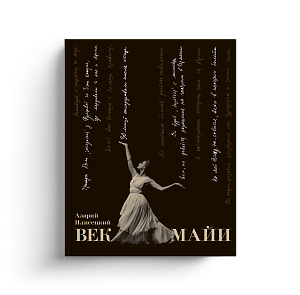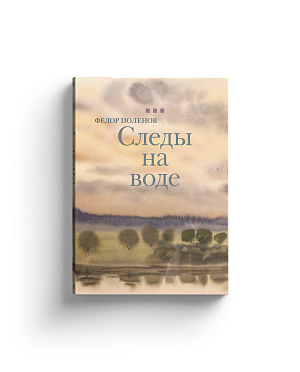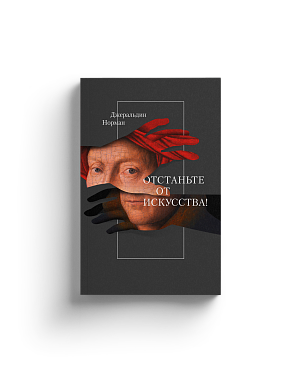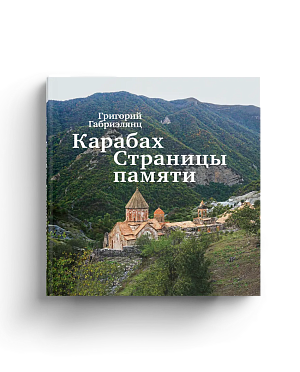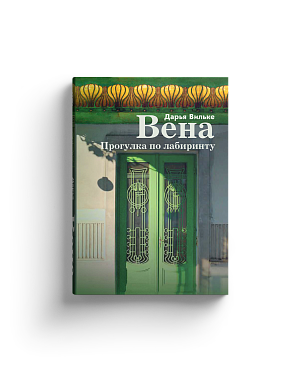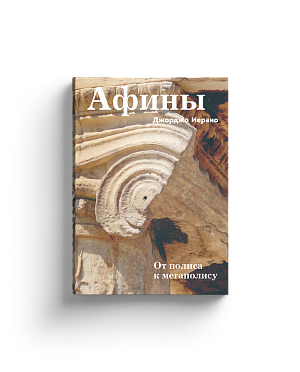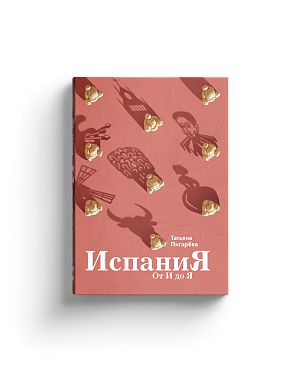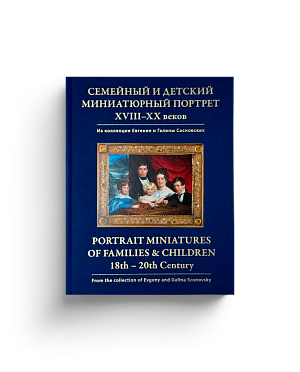Амбруаз Воллар
«Как я познакомился с живописью Сезанна? Впервые я увидел картину этого художника (на ней был изображен берег реки) на улице Клозель, в витрине магазина мелкого торговца красками Папаши Танги. Меня словно ударили под дых… Как прекрасно торговать картинами и жить среди таких шедевров! Неудивительно, что, когда я всерьез занялся этой профессией, первым делом мне захотелось устроить выставку Сезанна».
И вновь удача: шум, поднявшийся вокруг завещанной Люксембургскому музею коллекции Кайботта, стал отличным информационным поводом, как выразились бы сегодня. Осталось выставить в витрине отвергнутых Люксембургским музеем Отдыхающих купальщиков, чтобы о выставке заговорили. Кайботт заплатил за картину 300 франков – огромную по тем временам цену. «Повсюду шедевры, и, можно сказать, за бесценок. За изумительный Портрет Захари Астрюка кисти Мане просили тысячу франков, и это казалось непомерно высокой ценой. …Уж не говорю о Сезанне, чьи холсты продавались в 1890 году у Папаши Танги: самые крупные – по 100 франков за штуку, а самые маленькие – по 40», – будет вспоминать Воллар.
В наши дни имя художника Гюстава Кайботта вновь на слуху: его картины выросли в цене, ему посвящают выставки, а прежде называли второстепенным мастером и ценили лишь как первого крупного собирателя импрессионистов. Кайботт скончался скоропостижно. Бессменный победитель национальных парусных регат ушел из жизни в 45 лет, успев завещать свою коллекцию французскому правительству. По условию дарителя картины должны были сначала быть выставлены в Люксембургском музее, а затем в Лувре. Казалось, ничего из ряда вон выходящего: в первом европейском музее современного искусства художникам дозволялось выставляться при жизни, а если через десять лет после смерти «их слава закреплялась всеобщим мнением», работы передавались в Лувр. Появление же в Лувре полотен Моне, Ренуара, Писсарро и их друзей означало бы официальное признание импрессионизма. «Принять подобную мерзость для правительства было бы равносильно моральному падению», – возмущались академики.

В 1896 году после двухлетних препирательств Люксембургский музей все-таки принял коллекцию, уменьшившуюся почти наполовину. За это время Воллар успел близко сойтись с Ренуаром, которого Кайботт назначил своим душеприказчиком, и познакомиться с Дега. На улицу Лаффит часто заглядывал Писсарро, и Воллар — человек проницательный и «обладающий редкостным умением слушать» — не пренебрег советами старейшего из когорты импрессионистов. Писсарро испытывал к начинающему торговцу картинами особую симпатию: как и Воллар, он родился вдали от материка, на маленьком острове Сент- Томас в Датской Вест-Индии и приехал в Париж в 1855 году, в таком же возрасте, как и Воллар. Их также роднило происхождение: если у Воллара была примесь креольской крови, то Писсарро был евреем. И тому и другому об этом при случае напоминали. Именно Писсарро убедил новичка в гениальности своего друга, уговорил устроить выставку, пообещав одолжить имевшиеся у него полотна, если, конечно, славившийся неуживчивостью Сезанн на это согласится.
«Увы! Трудность состояла в том, чтобы разыскать того, кто скрывал свой адрес!» — начинает увлекательную историю своих поисков Воллар. Узнав, что художника видели на этюдах в лесу Фонтенбло, он отправляется «на местность», где выясняет, что Сезанн не появлялся в здешних краях вот уже несколько месяцев (по другой своей же версии он пробует выведать парижский адрес «отшельника из Экса» у торговцев красками). Но кто-то же должен знать, где в Париже обитает Сезанн? И такой человек находится, однако он в состоянии вспомнить лишь то, что в названии улицы соединялись имя животного с именем святого. Уже через несколько часов наш герой, сидя в небольшом кафе, листает справочник парижских улиц, в котором обнаруживается улица Льон (улица Львов), дальше благодаря его поразительному умению разгадывать шарады она превращается в улицу Льон-Сен-Поль. «Я воспрял духом: имя животного было налицо, и, по всей вероятности, в простонародье к нему присоединялось имя святого, патрона соседней церкви». Загадка решена! Ни минуты не медля, Воллар направляется в квартал Маре, собираясь звонить во все двери подряд. И вновь (ну кто бы сомневался?) удача! Из первой же двери выглядывает консьержка: «Месье Сезанн? Он живет здесь. Его самого нет, но дома его сын». Поль крайне любезен. Узнав о выставке, обещает написать отцу и попросить у него согласия дать картины. Вскоре Воллар получает 150 (!) свернутых в рулоны полотен: вконец отчаявшийся обрести своего дилера (за неимением в русском языке соответствующего понятия, приходится прибегать к несвойственным той эпохе определениям), Сезанн отправил в Париж гораздо больше работ, нежели могла вместить небольшая галерея. Воллар никак не ожидал подобного. Денег у него в обрез. По два су за метр удается купить узкий белый багет, знакомый подмастерье задешево натягивает на него холсты. В последний момент Писсарро не решается расстаться с любимыми полотнами, но работ и без того более чем достаточно. Из-за недостатка места постоянно приходится заменять одни картины другими, благо те бойко раскупаются художниками — Дега, Моне, Писсарро, Ренуаром. «Мой восторг — ничто в сравнении с восторгом Ренуара. Сам Дега очарован обаянием этого утонченного дикаря — так же, как Моне и все мы, — пишет Писсарро сыну. — Как удачно выразился Ренуар, эти вещи чем-то напоминают вещи Помпеи, такие простые и такие восхитительные! Дега и Моне купили несколько поразительных „сезаннов“, я обменял жалкий этюд Лувесьенна на замечательную маленькую картинку с купальщицами и один из его автопортретов». Не отстают и коллекционеры — и не кто-нибудь, а банкир Исаак де Камондо, маргариновый король Огюст Пеллерен, доктор Жорж Вио, граф Таково, он же король Сербии Милан Обренович, издатель Жорж Шарпантье, художественный критик Гюстав Жоффруа, драматург Людовик Галеви, сын американского банкира, художник-любитель Эгисто Фаббри, которого с творчеством Сезанна познакомил Писсарро. Связи все-таки великая вещь. «У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать», — мог повторить Воллар вслед за одной из сказочных киногероинь. Очередного почитателя таланта Сезанна, барона Дени Кошена, к нему ему приведет Дега.

Упорно ходили слухи, что Сезанн инкогнито вместе с сыном заходил на выставку, но первой своей ретроспективы художник не увидел. Всю зиму он не покидал родной Экс-ан-Прованс, куда весной 1896-го к нему примчался Воллар с двумя тысячефранковыми купюрами в бумажнике, чтобы вернуться оттуда с полной тележкой картин. Отношения с Сезанном не ограничились поездкой в Экс, они виделись каждый раз, когда художник приезжал в Париж. «Он проявлял по отношению ко мне такую благосклонность, что я осмелился однажды попросить его написать мой портрет», — скажет Воллар, создавший в свою очередь литературный портрет Сезанна. Он не разбирал творчество художника и, уж конечно, не рассказывал о том, сколько полотен прошло через его руки: по последним подсчетам чуть больше 300 или чуть меньше 400, иными словами, две трети всего наследия художника. «Я купил все ателье Сезанна и провел уже три или четыре выставки; он начинает привлекать внимание публики», — хвастается вчерашний мелкий торговец картинами.
В канун 1900 года Воллар устраивает художнику уже третью выставку, а ведь еще совсем недавно он не мог позволить себе купить в лавке Папаши Танги самый дешевый холст. А на распродаже коллекции этого «благодетеля непризнанных художников» у него не хватило денег, чтобы заплатить за картины. «Уплатите, когда будете в состоянии», — милостиво соглашается оценщик, отказываясь брать работы в залог. Если эта сценка — плод очередной фантазии автора Воспоминаний торговца картинами, остальное подтверждается документально: и распродажа Танги в отеле «Друо» в 1894 году, и первая выставка Сезанна в декабре 1895-го, а за ней вторая в мае 1898-го, и именитые покупатели, стоящие в очереди за полотнами «отшельника из Экса». Считавшаяся выдумкой гора свернутых в рулоны «сезаннов» — и та оказалась правдой благодаря недавним исследованиям трещин на поверхности холстов.
Лавочка Воллара становится единственным местом в Париже, где можно увидеть картины художника «одновременно неизвестного и знаменитого». Как развивалась бы история современного искусства, не прояви 30-летний торговец смелость и не выстави у себя Сезанна, ставшего кумиром стольких художников?
— Это вы открыли Сезанна? — спрашивали Воллара полвека спустя.
— Ну что вы! Я лишь организовал его первую выставку, — отнекивался он.

Готовый по дружбе устроить выставку второстепенному живописцу, наш герой никогда не забывал о бизнесе. «Воллара волнует только то, что он может продать — остальное для него не представляет ровно никакого интереса», — делится с сыном Писсарро. Благодаря сочетанию удачи и проницательности за десять лет его протеже, одаренный наблюдательностью и феноменальной памятью, избавил мастерскую в Эксе от большей части картин и акварелей, принесших «большому черному человеку» состояние. Ни одному парижскому дилеру не удавалось столько заработать на одном художнике, как Воллару с его «сезаннами». Он скупал работы, когда те появлялись на аукционах, и не спускал глаз с сына художника, заработавшего на картинах отца никак не меньше миллиона. Сколько же тогда заработал сам Воллар, купивший в 1913 году у Поля Игроков в карты, проданных им в 1925 году за миллион?
При этом, как уверяла Гертруда Стайн, само имя «Сезанн» звучало для Воллара магически. Художник, обеспечивший его процветание, был в то же время величайшей страстью его жизни. Стайны купят в лавочке на улице Лаффит 20 работ, в том числе Портрет Мадам Сезанн с веером, обошедшийся брату с сестрой в 8000 франков. Одна из самых ценных картин, висевших у них в доме на улице Флерюс, досталась Стайнам, можно сказать, задешево, хотя для их скромного бюджета это был рекорд. Через два года Сезанн уйдет из жизни. Воллар начинает поднимать цены и богатеть. Сергей Щукин будет платить по 18 тысяч за холст, а Ивану Морозову натюрморт Персики и груши обойдется уже в 30 тысяч.
Однако мы забежали далеко вперед. Пока что, удачно продав партию «сезаннов», Воллар покидает лавочку в верхней части улицы Лаффит и в мае 1896 года перебирается ближе к Итальянскому бульвару, в дом под номером 6, ставший впоследствии легендарным. Теперь у него прекрасный магазин с антресолью. Стены большого зала он красит желтой охрой.